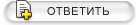Эти...
Эти...
Создана: 04 Июля 2017 Втр 16:31:52.
Раздел: "Политика"
Сообщений в теме: 63 (+12), просмотров: 16277
-
Недобрая тётенька писала
 :
:
Опять же, теоретически, не испытав на своей собственной шкуре эти самые "ужасы", понять можно многое. И снисходительно простить.
Нам с Вами по определения невозможно прочувствовать в полной мере и осознать необходимость принимаемых в то время решений, когда в рамках решаемой стратегической задачи физического выживания нации, отправляла на казалось бы сегодня "бессмысленную" смерть десятки и сотни тысяч своих сынов (в моей семье из 7 детей двух семей выжили двое - мои родители), но...
Но, сотни тысяч и миллионы смертей наших солдат, в том числе и жизни дядьев моих, они были увы, средством нивелирования объективных и реальных преимуществ лучшей на то время армии мира.
Командование РККА нашло пусть и кровавый, но реально действующий метод компенсирования талантов и возможностей Вермахта.
Те годы, когда РККА кровь свою без меры лила, искуплены 44-45, когда немцев драли насмерть и от души.
Но иначе бы, мой отец не взял бы с своим батальоном в том числе, Будапешт, а его соотечественники и земляки Берлин.
Есть вещи, которые нужно без лишних рассуждений принимать такими, как они есть. Тот же памятник в Трептов-парке. -
-
Недобрая тётенька писала
 : julchi, Вы про РККА, а я о другом ведомстве. НКВД.
: julchi, Вы про РККА, а я о другом ведомстве. НКВД.
Цитата ... :Нам с Вами по определения невозможно прочувствовать в полной мере и осознать
Надеюсь на это и уповаю.
Подразделения НКВД первыми приняли бой, и насмерть стояли 22.06.41 года, и умерли, честь не посрамив в большинстве своем, ибо пограничниками были, дивизии НКВД умирали но отстояли Сталинград, и прочее, прочее, прочее...
Литературное произведение, реально и по полной пострадавшего человека, не есть повод её личные беды и обиды транслировать на всё то, что сделала Советская Власть.
Та же Советская Власть из крестьянской девчонки бежавшей от голода с семьёй из Поволжья в Туркестан сделала квалифицированного специалиста бухгалтера, а из отца, потомка огородников, сначала учителя, а потом офицера...
На таких как они, на их братьях, что сожрала та война, выжила наша страна. И да, военный путь моего отца через Западную Украину прошел.
По пути в Венгрию. А через дом от нас жил ссыльный бандеровец...
Он на улицу нос не казал, треть улицы бывшие фронтовики были.
А вот младшая его на меня вешалась... Ах детство. Ах Наташка... ))) -
Нам говорят, что было написано 4 млн. анонимных доносов. Массовое явление. Причем донос очевидно был результативен - ночь, черный воронок, Колыма - и потому массов.
Репрессии коснулись звена мелких, средних и крупных управленцев.
А теперь посмотрите на это со стороны тех, кто писал доносы. Очевидно, это самые "маленькие люди" (просто по численности авторов анонимок, не могло быть в стране 4 млн. управленцев), по отношению к которым начальство или просто более социально успешные граждане реально или мнимо проявили "несправедливость".
И вот эта бумажка от самого незначительного человека включала государственный механизм утверждения справедливости - пусть даже это была ложная, субъективная справедливость маленького человека. Слова из радиоприемника о том, что Советское государство стоит на страже интересов трудящихся, подтверждались быстро, наглядно и сурово.
А буквально через несколько лет те же самые граждане решали, стоит ли умирать за такое государство. -
Ага. А тот, кто писал доносы, неужели не понимал, что следующим, на кого их напишут, будет он сам? Ах, ну да, конечно, кто же мог представить, что будет с тем, на кого он этот донос написал? Существует множество свидетельств о том, как писались эти доносы, о методах ведения допросов. Иначе какой сволочью надо быть, чтобы оформить "ближнему своему" командировку в застенки на Черном озере (Казань), Бутылку или Лефортово (Москва), Большой дом на Литейном (Ленинград), потом 10 лет одиночества в нечеловеческих условиях одиночной камеры... а затем поездку на курорты солнечной Колымы... и спустя некоторое время отправится по идентичному маршруту.
Мы не должны каяться за Сталина. Но мы должны помнить, как это было.
А предатели были, есть и будут. Всегда будут граждане, которые "откосят" от армии, дезертируют с поля боя, перейдут на сторону врага по идейным соображениям, или спасая свою шкуру и шкурки своих детей. Се ля ви. -
Вы не поняли основную идею. Доносы писали маленькие люди. Вероятность того, что на самого автора впоследствии напишут донос стремилась к нулю. И даже в этом случае такие маленькие люди представляли малую ценность для НКВД. В отличие от управленцев разного уровня, которые в действительности могли оказаться вредителями и врагами народа, хотя бы и с очень малой вероятностью. Тем более неправдоподобно, чтобы некий руководящий работник написал донос на слесаря-сантехника или дворника.
Таким образом, массовые репрессии в глазах подавляющего большинства народа, которые могли наблюдать аресты "врагов народа" непосредственно и неоднократно, являлись проявлением именно социальной справедливости, утверждаемой государством.
И когда понадобилось умирать за это государство, это, возможно, стало очень существенным аргументом за. Иначе трудно объяснить явление, которое в советское время называли "массовый героизм".
По поводу моральных аспектов. Я думаю, люди, писавшие доносы, были прекрасно осведомлены, о том, что ждет жертв. Но они взвесили свой поступок на весах своей совести и приняли решение, что наказание адекватно, и справедливость будет утверждена. Хотя бы и личная, субъективная справедливость. И будет утверждена немедленно и практически публично. Это очень дорогого стоит.
В "демократических, цивилизованных странах" утверждение субъективной справедливости будет стоить миллионных сумм как минимум - наем своры адвокатов, подкуп через специальные благотворительные фонды судей и присяжный, с риском попасть на первые полосы желтой демократической газеты, если сумма окажется недостаточной для покупки шакалов свободной прессы. -
Ну не совсем.
т.н. интеллигенция друг на друга писала только в путь.
Одни учёные подсиживая других не стремались донести.
А убрать конкурента с помощью доноса вообще милое дело было.
Кстати, Марценкевича, который Тесак и которого недавно закрыли, первый раз посадили по доносу Олёши Навального :) -
Недобрая тётенька писала
 : Ага. А тот, кто писал доносы, неужели не понимал, что следующим, на кого их напишут, будет он сам?
: Ага. А тот, кто писал доносы, неужели не понимал, что следующим, на кого их напишут, будет он сам?
Сударыня, ваше ключевое заблуждение заключается в том, что Вы, с высот знания конечного итога событий, и хуже того, с высоты морально-этических норм сегодняшнего дня, лезете ставить оценки людям своего времени, действовавшими в рамках морально-этических принципов ИХ ВРЕМЕНИ, и ИХ УБЕЖДЕНИЙ.
Попробуйте рассказать американцам, что отец их нации, Джордж Вашингтон был плантатором и и рабовладельцем, и рабынь негритянок насиловал, что есть правда, и что есть это естественная норма поведения белого рабовладельца той эпохи, они что, отрекутся от него? Отрекутся от единомышленников его, провозгласивших Независимость Штатов?
Англичане, вырыв труп Лорда-Протектора Кромвеля из могилы, четвертовали его труп и развесили на виселице тогда, а сегодня памятник ему стоит у британского парламента.
Реальную цену событий середины прошлого века поймут наши внуки. И именно им, ставить событиям той эпохи объективные оценки. -
Вы глубоко заблуждаетесь. Нет никаких различий в морально-этических нормах дня сегодняшнего и людей того времени по отношению к предательству. Они прекрасно осознавали, что делали. Они боялись и предавали. За сохранность своей шкуры. Предательство и подлость всегда - предательство и подлость. Даже если кто-то надеялся подняться по карьерной лестнице, воспользовавшись ситуацией, это не было морально-этической нормой. Большинство людей осуждали и было огромное количество порядочных людей, которые не подписывали протоколы, не давали лживых показаний и "очных ставок", даже точно зная будущие фатальные последствия своего порядочного поведения.
Не поленитесь, прочтите.
Володя Дьяконов? Что ему делать тут? Или он тоже арестован? Независимо от всех этих недоумений я рада видеть Володю. Старые знакомые. Наши отцы до сих пор на «ты», они учились вместе в гимназические времена. Я способствовала приему Володи на работу в редакцию. Очень охотно, почти любовно учила журналистской работе этого парня, который был моложе меня лет на пять. Много раз он говорил, что любит меня, как сестру. Приятно видеть такое близкое лицо. И, прежде чем Бикчентаев успевает отпустить приведшего меня конвоира, я протягиваю Володе обе руки:
– Володя! Как мои дети? Отвечайте скорее…
Бикчентаев поднимается со стула. Он вот-вот лопнет от охватившего его возмущения. Такое неслыханное нарушение режима! Обвиняемый, бросающийся в объятия уличающему его свидетелю! Ибо, как это ни странно, Володя приглашен сюда в качестве свидетеля моих «преступлений». Он пришел давать мне «очную ставку».
– Порядок очной ставки такой, – разъясняет Бикчентаев, немилосердно коверкая русские слова, – я задаю «вопрус». На него сначала отвечает «свидитил» Дьяконов, потом обвиняемая…
Мою фамилию он произносит с ударением на последнем слоге и неимоверно гортанным Г.
– Как, Володя, это вы даете мне очную ставку? В чем же вы можете уличить меня? Или вы тоже арестованы и не выдержали нажима, подписали разную ерунду на себя и на меня?
Бикчентаев стучит по столу кулаком. Но это не страшно, а смешно. Кулачишко у него пухленький, с ямочками.
– Обвиняемая! (У него получается «авиняема».) Прекратите оказывать давление на свидетеля. А вы, Дьяконов, ведите себя как положено, а то прикажу вас тоже арестовать и отправить в тюрьму.
Ага! Значит, Володя не арестован? Что же означает этот фарс? Но Володино лицо вытесняет мысль о фарсе. Он изжелта-бледен, веки дергаются, синие губы трясутся. Вместо ответа на мой вопрос о детях он лепечет:
– Я-я-я… Я болен, Женя. Я только что перенес энцефалит.
– Свидетель Дьяконов, – торжественно возглашает Бикчентаев, – вчера на допросе вы заявили, что в редакции газеты «Красная Татария» существовала подпольная контрреволюционная террористическая группа и обвиняемая входила в нее. Подтверждаете ли вы это сейчас, в присутствии обвиняемой?
Страшно смотреть, что делается с Володей. Нервный тик так искажает его правильные черты, что они кажутся уродливыми. Он почти нечленораздельно мычит:
– Это… это… Я, собственно, говорил, что те люди, которых вы спрашивали, занимали в редакции руководящие должности. А больше я ничего не знаю.
Бикчентаев грозно хмурит то место, где у других людей брови, и поворачивается ко мне.
– А вы подтверждаете это?
– Что тут подтверждать? Он просто перечислил всех заведующих отделами редакции… О подпольщине и терроре говорите вы, а не свидетель. Он об этом и не заикается.
Бикчентаев зловеще улыбается и пишет протокол. Он записывает сначала свой вопрос, потом ответ Дьяконова в такой редакции: «Да, я подтверждаю, что в редакции „Красной Татарии“ существовала подпольная контрреволюционная группа».
Потом подсовывает листок Володе.
– На очной ставке каждый вопрос и ответ подписываются отдельно. Подписывайте!
Володя еле удерживает ручку в дрожащей руке и медлит.
– Володя, – мягко говорю я, – ведь это фальшивка. Вы ничего подобного не говорили. Подписав это, вы убиваете стольких людей, ваших товарищей, которые так хорошо к вам относились.
Бараньи глазки Бикчентаева лезут на лоб.
– Как вы смеете оказывать давление на свидетеля! Я вас сейчас в нижний карцер отправлю! А вы, Дьяконов, ведь подписали все это вчера, когда были здесь один. А теперь отказываетесь! Я вас сейчас же прикажу арестовать за ложные показания.
И он притворно тянется к звонку, которым вызывают конвоиров. И Володя, как кролик под взглядом удава, выводит подпись, напоминающую письмо паралитика и ничуть не похожую на тот бойкий росчерк, которым он подписывал свои статьи на темы новой морали. Потом еле слышно шепчет:
– Простите меня, Женя. У меня только что родилась дочь. Я не могу гибнуть.
– А о моих трех детях вы и не подумали, Володя? И о детях тех, кого вы тут вписали?
Бикчентаев опять страшно орет и стучит, но я его совсем не боюсь. Карикатурных толстяков нельзя ставить на такие палаческие роли. Получается «снижение плана». Я добавляю:
– Главное, Володя, вы не подумали о себе. Ведь если вы действительно знали, что существует такая группа, и не сообщали о ней куда следует, пока вас не вызвали, то есть с 34-го до 37-го года, то вы, выходит, ей содействовали. А это ведь уже уголовное дело!
Володя бледнеет и синеет еще больше. Теперь по его щекам катятся откровенные слезы. А окончательно взбешенный Бикчентаев на этот раз действительно звонит и приказывает пришедшему конвоиру увести меня в карцер.
И еще следом:
Нет, это был действительно день сюрпризов! На его месте моя многолетняя подруга Наля Козлова. Ей я тоже в свое время помогла устроиться в редакции и тоже в моем отделе. В студенческие годы мы были всегда вместе. Шутливое прозвище вечно что-то сочинявшей и писавшей Нальки было – Наташа Козлете. Сколько зачетов и экзаменов подготовлено вместе, сколько стихов вместе прочитано, сколько доверено друг другу «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»! И вот она тоже, вслед за Володей Дьяконовым, пришла сюда, чтобы помочь моим палачам.
У меня перехватило горло. Неужели все демоны сговорились сделать мое тридцатилетнее сердце сразу столетним? Чтобы я только и могла повторять вслед за Герценом: «Все погибло: свобода мира и личное счастье…» А может быть, Наля решила спасти меня и делает какой-то хитрый ход, пока еще непонятный мне? И я с надеждой ловлю ее взгляд. Но она отводит глаза в сторону.
Сейчас лейтенант Бикчентаев вполне доволен. Ему не приходится так нервничать, как со слабовольным, слезливым Дьяконовым. Свидетельница, привыкшая к газетной работе, дает такие четкие формулировки, что Бикчентаеву остается только бодро и торопливо скрипеть пером.
Вот она уже подтверждает своей подписью, что в редакции существовала подпольная террористическая группа и что я активно участвовала в ней. Она даже конкретизирует свои показания. Оказывается, если Кузнецов (секретарь редакции) играл главным образом организаторскую роль, то я в этой фантастической группе выполняла обязанности агитпропа.
Коварно улыбаясь, Бикчентаев задает вопрос, который должен меня доконать:
– Считаете ли вы контрреволюционные связи обвиняемой случайными? Или она имела такие же и в студенческие годы?
И моя подружка Налька – милая, смешная, богемистая Наташа Козлете – отчеканивает как по писаному:
– Нет, ее связи с троцкистским подпольем нельзя считать случайными. Еще в ранней юности она дружила с ныне репрессированными Михаилом Корбутом, Григорием Волошиным. Скорее всего, их связывало политическое единомыслие.
Вдруг на столе Бикчентаева отчаянно трещат все три телефона сразу. Наш Юлий Цезарь прикладывает по трубке к каждому уху и, упиваясь собственной ролью в историческом процессе, слушает сразу двух, предварительно крикнув третьему: «Подождите!»
Я пользуюсь моментом. Когда-то в студенческие годы мы обе с Налей Козловой были отличницами кафедры французского языка. И я вполголоса говорю ей по-французски:
– Благородную роль играешь! Как в кино или в романе Дюма-пера! Ты что, рехнулась?
Не поднимая глаз, она сухо отвечает по-французски же:
– Если ты будешь меня задевать, я скажу еще и про Гришу Бертникова.
Гриша был членом партии с февраля 1917 года. Последнее время работал в Свердловске. Сейчас, видимо, был арестован, поскольку Козлова пугала меня им. Наверно, связь с ним казалась Нальке особенно страшной потому, что Гриша работал в «Известиях», когда их редактировал Бухарин. Я была с ним знакома ровно столько же, сколько все остальные в нашей редакции. Но Козлова понимала, что даже простое упоминание еще одного «репрессированного» имени будет отягощать мое положение. Меня захлестнуло раздражение.
– Попробуй, – прошипела я, – тогда я сейчас же меняю свою тактику со следователями. Подпишу все глупости, которые они сочиняют, а тебя объявлю активным участником группы. Скажу – я сама завербовала ее…
В этот момент мой мудрый следователь, оторвавшись от телефонов, уловил звуки чужого языка.
– На каком языке вы оказываете давление на следователя?
– На французском.
Снова удар пухленького кулачка по столу, снова вопли о подземном карцере.
– Извините, лейтенант, – говорю я любезно, – я просто привела поговорку. Примерно: «Век живи – век учись»… Я никак не думала, что вы не понимаете по-французски.
Свидетельница Козлова взглядывает на меня с испугом. Как можно так издеваться над тем, в чьих руках твоя судьба?… Но я-то точно знаю, что ничем не рискую. Я так хорошо изучила умственные способности лейтенанта Бикчентаева, что уверена: он примет мои слова буквально.
Так и есть. Примиренным голосом заявляет:
– Никто не говорит, что кто-то чего-то не понимает. Но официальный язык следствия – русский (у него получается «афисьяльный»), и будьте добры придерживаться этого языка. Эту же поговорку («и тот же пагавурк!») вы могли сказать по-русски…
Хорошее настроение уже не оставляет лейтенанта до конца, и, закончив протоколы, он дает их еще раз подписать свидетельнице Козловой. Я вижу, как слегка разбрызгиваются чернила под такой знакомой с юных лет подписью. Бикчентаев аккуратно промакивает ее тяжелым прессом, потом элегантно вручает Нальке пропуск.
– Вы свободны, товарищ Козлова.
В дверях Налька вдруг мнется, лицо ее покрывается красными пятнами. Потом она протягивает мне свернутую газету.
– Возьми. Сегодняшняя.
– Спасибо. Не надо. В тюрьме газет читать не разрешают. Книги тоже запрещены.
Снова трещит телефон, и Бикчентаев не успевает обрушиться на меня. Он берет трубки и одновременно нажимает звонок, вызывающий конвоира. А Налька все медлит с уходом.
Эта деталь (нельзя читать!), видимо, раскрыла ей что-то, чего она не додумывала.
– Значит, ты не знаешь никаких новостей? – быстро говорит она вдруг, пока Бикчентаев занят телефоном. – Орджоникидзе умер. И еще Ильф…
– Завидую им. Сами умерли. А мне ведь теперь, на основании твоих и Володиных ложных показаний, расстрел…
Глаза Нальки наливаются ужасом. Она пятится к выходу.
Да, только при «индюшонке» Бикчентаеве возможны такие вольности. Веверс или Царевский проморили бы в карцере неделю за одну попытку такого разговора. А этот только повизжал и уже без всякой элегантности предложил Козловой немедленно идти домой, «пока я не аннулировал пропуска»… Даже в карцер забыл меня отправить. Уж очень удачна была «очная ставка»!
Неужели не видите, что НЕТ никаких оправданий тому, что происходило. А уж морально-этических и подавно. Те, кто писал доносы, и те, кто не писал, прекрасно отдавали себе отчет о том, что это подлость и предательство. И переживали это... каждый как мог. -
Так, что-то знакомое. Беллетристика в качестве доказательства. Мы уже это видели.
Мы с вами раньше не встречались?
Почему вы думаете, что кто-то всерьез воспримет длинные и бестолковые цитаты из неведомых литературных сочинений?
Что вы называете предательством? После войны большинство предателей было наказано, некоторые - повешены. -
Это вряд ли. Я бы Вас запомнила 😉 Пожалуйста, не надо намеков на кого-то, кто Вам был когда-то знаком. Я на этом форуме впервые. Не ищите черную кошку в темной комнате.
И это, конечно, беллетристика, но, прежде всего, это рассказ из первых уст. Это Гинзбург - "Крутой маршрут". Она там была и у меня есть основания верить человеку, который ТАМ был. И хорошо, что она это написала. Человек, который прошел все круги этого ада, точно знает больше нас с Вами. Я ничего не хочу доказывать. Кто хочет, тот найдет всю информацию, она есть в открытом доступе. В беллетристике, или где-то еще. Свидетельств полно. Есть еще выжившие непосредственные участники и жертвы событий, есть колымские дети. Не хотите, не верьте, я лично не настаиваю. Верьте в то, что Вам лично нравится больше, называя все остальное глупой беллетристикой. У нас свобода слова и мысли, вроде как.
Что я называю предательством? Спасать свою жизнь, обрекая ближнего на смерть, подписав липовые протоколы. Нет? По Вашему, это нормально? Предать можно не только Родину. Но основной посыл будет одинаков: спасти свою жизнь или поиметь какие-то "плюшки" для себя. Идейные предатели тоже бывают, но реже.
ЗЫ. Правда, хорошо рассуждать об этом теоретически, сидя в уютной квартире, за чашечкой кофе? И говорить: "Ах, не смешите мои тапочки, Гинзбург (Шаламов, Рыбаков, Солженицын - подставьте нужное...) написала глупую беллетристику, я это всерьез воспринимать не буду"... аргумент из разряда "бе-бе-бе", извините.
Слушайте, это жесть. Вы страшный человек. "Личная субъективная справедливость"... это полный абзац. -
Grammiphone писал
 : Ну хотя бы не анонимный донос.
: Ну хотя бы не анонимный донос.
анонимки просто запрещены
тоже хотелось бы узнать.
плюс еще статистику по регионам. -
Недобрая тётенька писала
 :
:
И это, конечно, беллетристика, но, прежде всего, это рассказ из первых уст.
Спасибо.
Солженицина мы тоже читали
-
У Гинзбург - та же самая субъективная правда, что и у автора анонимного доноса в НКВД. Только Гинзбург судит в своих belles lettres, а автор доноса - в анонимном послании органам. Но суд их в обоих случаях - субъективен. Именно поэтому тексты анонимок интересны как иллюстрации или в каких-то частных случаях. Никогда их содержание не используют в качестве исторических фактов.
Почему же вы решили, что тексты Гинзбург можно использовать как источник исторических фактов?
Да, кстати, предательство - это, например, вероятное предательство Хармса, который собирался стрелять в спины сограждан.