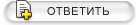Все , не вижу
Все , не вижу
Создана: 06 Ноября 2014 Чтв 23:36:26.
Раздел: "Флейм"
Сообщений в теме: 33, просмотров: 8498
-
avd173791 писал
 : Буду проще.
: Буду проще.
стал искать про акына и вот что нашел
Вчерашний день, вчерашние стихи,
вчерашний снег, вчерашняя погода.
А на дворе - иное время года,
и день стоит иной в календаре.
Юрий Левитанский
«Над старой тетрадью»
Когда израильское небо становится подвижным, меня охватывает чувство, которое может показаться злонамеренным: мне становится хорошо.
Никогда не думал, что может быть хорошо от пасмурного дня, от дождя, от сырости и промозглости. Состояние это можно объяснить только тем, что за долгое израильское лето глаза почти забыли, что значит видеть, а душа - что значит петь.
Определение творческого метода акына - что вижу, то пою - вовсе не лишено смысла. Напротив, оно содержит очень важную идею. Эта идея заключается в отсутствии равновесия между двумя сторонами творчества поэта-импровизатора - между «видеть» и «петь». Люди напрасно упрощают этот метод, считая, что акын видит то же самое, что и все остальные, а отличается от них только тем, что поет это видимое.
Неравновесие заключается как раз в обратном. Творческий метод акына игнорирует умение петь (оно предполагается в любом человеке) в пользу умения видеть. Видеть чуть дальше собственного носа.
По большому счету, любой поэт поет то, что видит. Это видение часто называют духовным зрением, глазом духа. Но и нормальное зрение (глаз тела) играет здесь немалую роль.
Поэт-импровизатор поет буквально. Поет о том, что происходит перед его глазами, оставляя свои личные оценки как бы в скобках: «С неба сошла вода. Капли легли в траву. (Каплям в траве тепло). Выглянуло солнце. И снова спряталось. (Стало грустно). Пролетела птица. (Куда летишь ты, пернатое создание?!) Прошел человек...»
Израильский дождь подобен химическому реагенту, проявителю, с помощью которого на снимке проступает изображение. Жарким жестоким летом изображение отсутствует. Но стоит только пролиться первым каплям, как начинаешь замечать, что вокруг тебя происходит жизнь, движутся люди, автомобили, стоят дома, звучат слова.
Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нельзя дважды войти в один и тот же дождь. Эта истина неоспорима. Наверное, именно поэтому возникает желание ее оспорить.
Каждый год с наступлением сезона дождей я говорю себе: жизнь возвращается. Не наступает, не начинается, не продолжается, а именно возвращается. Каждый год с приходом первого по-настоящему пасмурного дня я испытываю одни и те же чувства: а). мне, как указано выше, становится хорошо (печально-хорошо); б). это «хорошо» раздирает меня на части; в). ну и пусть.
Каждый год с наступлением сезона дождей на углу моего дома появляется один и тот же нищий. На нем короткая накидка с капюшоном, сделанная из мутного целлофана. В заскорузлой коричневой горсти он держит стеклянную баночку из под соленых огурцов, в которой позвякивает медь. Он трясет баночкой перед носами прохожих и говорит только одно слово: «Слиха...» («Простите…»)
Каждый год с наступлением сезона дождей мое истощенное обоняние заявляет свои права на самые сокровенные уголки памяти - еловые, таежные, грибные. Каждый год такая наглость застает меня врасплох - и становится хорошо, печально-хорошо.
Сезон дождей не за горами, а за долами. Тем паче - горы за морями, а долы - рядом. Слепое небо натянуло рябую тучу, как стеганое одеяльце - до подбородка.
Стареет, гаснет солнце юга, что твой фонарик, под Рождество едва бредущий Тверским бульваром, что лак фамилий, звон регалий на пузе тумбы, что лампион в фойе театра, где бог - Таиров.
Во всем живущем искра Божья слезой мерцала. Из искры возгорелось пламя, да и угасло. И безнадежно ждать солдата с его огнивом, с душою Ганса-Кристиана, да с детством в ранце.
Стареет, гаснет солнце юга. Стареют, гаснут в фасадах - окна, в окнах - лица, а в лицах - солнца. И нет ни одного солдата на белом свете, который бы живым и юным с войны вернулся...
Брожу по парку с течной сукой мохнаторылой. Стоят натруженные зноем седые пальмы. Стоят платаны молодые. И кипарисы, как провинившиеся дети, глядят на сосны. Исходят фосфором газоны и пахнут паром, землей и цитрусом. А сосны совсем не пахнут. И странно мне глядеть на эти тугие лапы, которые, родившись хвоей, не пахнут хвоей.
Стареет, меркнет солнце юга. Стволы толпятся на угасающем театре декоративно. Идет вдоль рампы помраченной слепой с собакой: ни торжества, ни удивленья, ни безрассудства...
А там, на севере, в надежде, как в лихорадке, лежат снега, гремят составы, тарелки бьются. И люди, больше по привычке, чем от наитья, взглянув на мелкие осколки, «на счастье»,- шепчут. Но все тарелки перебиты и где же счастье? Оно, увы, как запах хвои от южных сосен, что не возможностью услышать его внезапно, а невозможностью услышать терзает душу...
Есть у меня немного жизни для этих сосен, для этих северных сестренок под небом юга. И этой крохи умиленья еще достанет для торжества, и удивленья, и безрассудства. И под стареющим светилом, на хвойном фоне, как «ох!» внезапный, прояснится изображенье: слепой, вдыхающий тревожно горчайший запах недосягаемой и вечной страны исхода...
Все это по-научному называется рефлексией. Психолог, социолог, физиолог и даже зоолог объяснят происхождение этих чувств как дважды два. Но все их объяснения не стоят выеденного яйца рядом с влажным ощущением реальности, с пробудившимися после летней летаргии обонянием и осязанием.
Переводя это ощущение на язык литературы, могу сказать определенно: с началом сезона дождей ценность старого слова в моей душе многократно возрастает. А ценность нового пропорционально теряет в весе. Банальные заключения среднестатистического критика (выражения типа «Творчество имярека - новое слово в поэзии») в это время кажутся мне особенно смешными и бессмысленными. Нет новых слов. Ни в поэзии, ни в обыденной речи.
Все стихи однажды уже были.
Слоем пепла занесло их, слоем пыли
замело, и постепенно их забыли -
нам восстановить их предстоит.
(Юрий Левитанский «Ars poetica»)
Интересно, какие ощущения в этом царстве слякоти испытывает художник или поэт, называющий себя авангардистом? Неужели и сейчас ему мнятся абстрактные геометрические фигуры, хаос, пятна цвета и гипертрофированные части человеческого тела? Неужели этот так редко плачущий мир не вызывает в нем легкой зависти к реалистам, неужели ему не хочется немножечко (пусть втайне, чтоб никто не видел) всхлипнуть под Репина, вздремнуть под Чайковского, взгрустнуть под Бунина? Неужели у него не возникает желания создать что-нибудь легкое, изящное, сиюминутное, необыкновенно простое и понятное, воскресить занесенное слоем пепла и пыли «старое» слово, которое, впрочем, и без его творческого участия постепенно отмывается этими бесконечными дождями?
Если он скажет, что все это бред, будьте уверены - он вам солгал. Современные авангардисты (подавляющее графоманствующее большинство) не желают прикасаться к традиции - опасаются оскверниться. Хорош был бы грудной младенец, который бы опасался оскверниться молоком матери! Они, говорящие исключительно новые слова, полагают, что в мире реальности настоящему творцу не место. Его дом - мир абсурда. Бедные, несмышленые люди!.. Они до конца своих дней ищут в чистом поле осла, на котором сидят.
Искусству необходим принцип: «Семь раз отмерь - один раз отрежь».
Сколько раз отмерил юный Пабло Пикассо, перед тем как отрезать и стать кубистом? Вспомните работы двадцатипятилетнего Сальвадора Дали, пейзажи Кандинского или, скажем, «Портрет сестры» Павла Филонова! Среднестатистический искусствовед скажет по этому поводу исключительно здравую фразу: «Эти великие художники в начале своего творческого пути настолько освоили традицию, что исчерпали ее до самых глубин. Их творческий порыв протирался так далеко, что они сумели сломать жесткие рамки традиционной живописи и воспарить в мире абстракции». Другими словами, эти художники переросли мир здравого смысла и творили уже в мире абсурда.
Мне кажется, что все как раз наоборот. Любая традиция (четырехстопный ямб, «Бурлаки на Волге», психологическая проза, «Аппассионата») есть исключительная дань абсурду времени. Ведь традицию составляют синхронические элементы (привнесенные сегодня, в данный исторический момент, в условиях данного политического режима и духовного состояния общества), хотя и формируется она диахронически, то есть во времени - вне зависимости от смены режимов и духовных ориентиров. Традиция - та же реальность. И если бы реальность устраивала всех своим духовным и интеллектуальным здоровьем, никакого творчества бы не существовало.
Любое творчество есть поиск здравого смысла. Творчество бесконечно. Поиски здравого смысла безнадежны. Тем не менее, именно этим определяется духовное развитие художника. И самые зрелые произведения тех же Пикассо, Дали или Филонова, были намного ближе к цели их поисков (читай - к здравому смыслу), чем ранние реалистические опыты. Тем не менее, эти ранние опыты были необходимы, для того, чтобы превратить традицию (то бишь реальность) в своего рода подкидную доску для прыжка в мир здравого смысла. (В истории живописи, между прочим, есть один очень талантливый художник, который - под жестоким давлением абсурда советской реальности - проделал обратный путь - творчески деградировал от здравого смысла к абсурду. Звали его Аристарх Лентуллов).
Беда современных авангардистов в том, что они, бедняги, этого не понимают. Они полагают, что смысл их творчества как раз в уходе от мира здравого смысла (от реальности) в мир абсурда. Эта грубая ошибка дает понимающим людям основание полагать, что за толстым слоем современного авангардного искусства, по сути, никакого поиска не стоит. «После многих лет приглядывания к литературному авангарду я понял его главный секрет: авангардисты - это те, кто не умеет писать интересно. Чуя за собой этот недостаток и понимая, что никакими манифестами и теоретизированиями читателя, которому скучно, не заставишь поверить, что ему интересно, авангардисты прибегают к трюкам. Те, кто попроще, сдабривают свои сочинения эксгибиционизмом и прочими нарушениями налагаемых цивилизацией запретов. Рассчитывают на общечеловеческий интерес к непристойности. Те, кто поначитанней, посмышленее, натягивают собственную прозу на каркас древнего мифа или превращают фабулу в головоломку. Расчет тут на то, что читателя увлечет распознавание знакомого мифа в незнакомой одежке, разгадывание головоломки. И этот расчет часто оправдывается. Чужое и общедоступное, не свое, не созданное литературным трудом и талантом, подсовывается читателю в качестве подлинного творения. Это можно сравнить с тем, как если бы вас пригласили на выступление канатоходца, а циркач вместо того, чтобы крутить сальто на проволоке, разделся догола и предложил вам полюбоваться своими приватными частями. Или вместо того, чтобы ходить по проволоке, прошелся бы по половице, но при этом показывая картинки с изображениями знаменитых канатоходцев» (Лев Лосев).
Кому не доводилось слышать полные гордости и самонадеянности слова: «Мой язык не каждому понятен!.. Я творю не для плебса...» Априорно творить не для плебса - может ли быть более плебейский подход к творчеству?
Боже упаси, я не призываю к упрощению, опрощению, к «искусство должно быть понятным»! Тем паче, что сам я - как раз сторонник элитарности любого творчества. Я говорю совсем о другом - об обстоятельствах, которые возвращают мне время, о времени, которое возвращает мне дождь, о дожде, который возвращает мне жизнь.
Плох тот художник, который копирует реальность. Но гораздо хуже тот, который ее презирает. Для того, чтобы творить, надо владеть материалом. Для того, чтобы им овладеть, надо его любить. Сиддхарта из одноименной повести Германа Гессе говорил: «Познать мир, объяснить его, презирать его - все это я предоставляю великим мыслителям. Для меня же важно только одно - научиться любить мир, не презирать его, не ненавидеть его и себя, а смотреть на него, на себя и на все существа с любовью, с восторгом и уважением».
Эти слова ежегодно становятся для меня откровением. Поздней осенью, с наступлением сезона дождей я снова и снова возвращаюсь к ним, припадаю к ним, как к источнику живой воды, который летом, увы, пересыхает.
А что же будет дальше, что же дальше,
уже за той чертой, за тем порогом?
А дальше будет фабула иная
и новым завершится эпилогом.
И, не чураясь фабулы вчерашней,
пока другая наново творится,
неповторимость этого мгновенья
в каком-то новом лике повторится.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И кто-то от обиды задохнется,
а кто-то от восторга онемеет...
А будет это с нами или с кем-то -
в конце концов, значенья не имеет.
(Юрий Левитанский «Вместо эпилога»)
Странное дело - нищий на углу моего дома совсем не стареет. Проходит год, за ним другой, а этот человек не меняется. Во всяком случае, я этого не замечаю. Вот и еще один повод настаивать на том, что жизнь не продолжается, а именно возвращается. Она в очередной раз, как в прошлую и в позапрошлую зиму, поджидает меня под проливным дождем. Она протягивает мне под нос свою коричневую заскорузлую руку с баночкой из под соленых огурцов, звенит своими жалкими копейками и тихо произносит: «Слиха...»
1993 г. -
ваше право
каждый видит то, что хочет
вот Виктор подняла не знает, что каждый автолюбитель должен обладать достаточным периферийным зрением: смотреть на дорогу вперед и замечать происходящее по бокам, внимательно выслушивать даму в разговоре и оценивать ее ноги